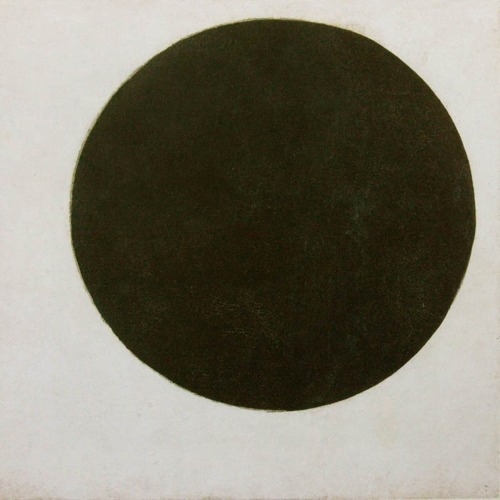Татьяна Алексеевна Маврина-Лебедева (20 декабря 1900 — 1996)

«…муки творчества, что нам приписывает литература, — мне просто непонятны, я человек рабочий. Если трудно — то не нужно, сказал еще давно философ Г. С. Сковорода. Повторю за ним и я!
Я не берусь „определить“, что такое творчество и что ремесло, мастерство, уменье, „самовыражение“ и т. д. Пишу, когда светло. Живет довольно самостоятельно рука. А когда я пишу, ей владеет даже не воля и мысль, а нечто вроде Сократовского „деймона“. Но руке нельзя все же давать полной воли, и надо „учить“, чтобы не была „вялой“, не было бы „чистописания“ и не форсила бы своим уменьем.
„Чистописание“ и „лихописание“ — одинаково плохо.
Это правило скромности руки, может, не все принимают и понимают. Но! Как хорошо принял это Боннар и из умелого рисовальщика японского типа стал нежнейшим живописцем, будто и „рисовать“-то совсем никогда не умел.
Ну а духовная сторона — что она собой представляет — То, не ведомо что…»
Татьяна Алексеевна Лебедева родилась в Нижнем Новгороде в интеллигентной и одаренной семье. (Ее брат Сергей Лебедев – академик и отец советской кибернетики, создатель первого нашего компьютера).
Маврина – фамилия ее матери, которую художница сделала своим псевдонимом.
В годы гражданской войны семья перебралась в Москву. Здесь Татьяна семь лет (1922–1929 гг.) учится в кузнице кадров левого искусства – во ВХУТЕМАСе.
«Преподаватели ничему не учили, – вспоминает она. – Говорили: „Пишите, а там видно будет“». А писать было так интересно, что придя домой, мысленно говорила: „Скорее бы наступило завтра, можно будет пойти в мастерскую и писать начатое вчера“» .
«Ушибленная цветом» — не раз говорит она про себя.
Позже Маврина критически переоценит многих своих учителей и ставших знаменитыми однокашников. А пока она прилежно учится в залах музеев, у полюбившихся на всю жизнь Моне, Ренуара, Ван Гога, Сезанна, Боннара, Матисса, Пикассо):«…После импрессионистов и Ван Гога и Матисса – земля преобразилась в глазах людей и стала умопомрачительной! Они показали, как глядеть, и уж что увидишь – твое дело». От них у Мавриной – и приемы, и настроение. «Упоение жизнью» и «Цвет ликующий» .
В 30-е Татьяна Маврина создает светозарные пейзажи, ироничные портреты и томные, однако озорные «ню».
Чаще всего «моделью» у нее была участница «13» актриса и художница Ольга Гильдебрандт-Арбенина, последняя любовь Гумилева, жена писателя, поэта и художника Юрия Юркуна. Ей посвящал стихи Мандельштам. Было в этой женщине что-то особенное.
Маврина так описывала свою подругу: «Стук в дверь. — «Войдите!» — И вошли двое: античная богиня в белой шляпе с вуалью, в перчатках — Ольга Николаевна Гильдебрандт-Арбенина, с ней молодой еще человек в элегантном сером костюме, чем-то похожий на запятую рядом с прямой Ольгой (это был Юрий Юркун)… Повеяло Мих. Кузминым, «прекрасными вывесками» от наших гостей, от их слов, жестов, от легкости, с какой Ольга Николаевна раздевалась, и я рисовала ее обнаженную: в шляпе с веером… Один холст я назвала «Богиня Ольга»».
Почти ежедневно она писала или рисовала обнаженную женскую модель, работая в разноообразных техниках. Подражания Анри Матиссу сменялись натурными набросками в женской бане. Венеры перед зеркалом существовали рядом с раздевающимися тетками в белье того незабываемого голубого цвета, который был характерен для трикотажа периода «строительства коммунистического общества». От этого времени осталось множество рисунков и акварелей, несколько десятков холстов, которые многие годы хранились буквально под кроватью — художница их никому не показывало: ведь обнаженная натура была недозволенной, почти запрещенной темой.
Главная героиня мавринской живописи 30-х – конечно, сама энергия, ее вихри, которые завивают мир прихотливым водоворотом. Но сам этот мир, как будто, еще не осознает себя полностью, он ликует на ощупь, можно сказать, вслепую.То же – и в самых ранних ее дневниковых записях начала и середины 30-х, словно яркий свет солнца рвется сквозь жалюзи в темную комнату, тасуя ее реальность то празднично, то тревожно – очень личностно.
Вторая половина 30-х годов предстают в ее дневниках как один бесконечный безоблачный летний день. «1937 год», – читаем мы и вздрагиваем по воспитанной в нас привычке. Но лета 37-го и 38-го годов – это первые летние месяцы с любимым человеком, поэтому они и исполнены бесконечного ликования. Впрочем, голоса извне, жестокий гул времени врываются и в этот мир. Она очень хрупка, эта идиллия, и стоит Кузьмину задержаться где-то, как Маврина впадает в панику, ею овладевает ужас почти физиологический (с мигренью), когда «из состояния благополучия выскакивала в какое-то сумасшествие»
О старой Мавриной вспоминали: получив букет, она старалась выпроводить гостя, чтобы побыстрее зарисовать гладиолусы, розы или астры. Эти букеты — победительны и едва ли не воинственны. Совсем другое дело — «ню» 30-х. Они — беззащитны и растерянны и даже гордая «богиня Ольга»…